
Владимир Смоленский. Фото К.Д.Померанцева.
Владимир Алексеевич Смоленский был, безусловно, самым популярным поэтом послевоенного времени в Париже. Когда он выступал в Русской консерватории, большой зал был всегда полон, иногда и переполнен. Очень красивый человек, он читал свои стихи со сдержанным пафосом, сопровождая чтение музыкальными жестами рук. Я сказал «музыкальными» потому, что жесты словно аккомпанировали музыке его поэзии.
Он был первым из парижского литературного мира, с кем я познакомился. Это было в конце 1944 года. Познакомился и с его второй женой, Таисией Ивановной, которой он посвятил немало своих стихов.
Постепенно знакомство перешло в настоящую дружбу, так что до его кончины в 1961 году я, как правило, минимально раз в неделю заходил по вечерам к нему, на седьмой этаж улицы Лакретелль, минутах в пятнадцати «на своих двоих» от моей «Церковной» (rue de l’Eglise). Заходил просто, захватив бутылку вина (против чего регулярно протестовала Т.И.), которую мы распивали за ужином и за беседами о «странностях любви», об очередных сплетнях и, конечно, о поэзии. Особенно мне «запомнилась» одна из этих бесед. Пишу «запомнилась» в кавычках потому, что сейчас, более двадцати лет спустя, не помню ни одного им сказанного слова, но ощущаю «сквозь смерть» неповторимое метафизическое звучание беседы.
Смоленский не был большим поэтом, таким, как, например, Ходасевич или Пастернак, но это был в полном смысле слова «поэт Божьей милостью», живший поэзией и ничего выше ее не признававший. Но это был сложный и глубоко несчастный человек. Наиболее близко я с ним сошелся во время летних отпусков, которые он, Т.И. и я проводили в альпийском городке Сервоз, километрах в пятнадцати от подножия Монблана. Смоленские нанимали комнату у местных крестьян, я – в скромном отельчике. Это было в конце 40-х и в начале 50-х годов. Уже тогда у Владимира с Т.И. начинался разлад. Что было тому причиной? – чужая душа – потемки, да еще душа глубоко неблагополучная. Я почти никогда не видел радости на его лице, разве что перед снежным великолепием Монблана или играющими маленькими детьми. Тогда лицо Владимира преображалось, просветленное грустной радостью. Я понимаю онтологическую несовместимость этих слов, но в экзистенциальном плане мира, в котором жил Смоленский, это было воистину так.
За все годы нашей дружбы я не заметил – может быть, был недостаточно наблюдателен, – чтобы у Смоленского были враги. Единственно кого он ненавидел, – это большевиков, убивших у него на глазах отца. Для него они были палачами «его России». Поэтому когда после Второй мировой войны немногие русские эмигранты, среди которых были и близкие ему люди, взяли советские паспорта и ждали возвращения на родину, Владимир к ним охладел; не поссорился с ними, а именно охладел: вычеркнул их из своей души. Их имен называть не буду.
Дело не в них, а в моем друге Володе Смоленском. Каким он проступает передо мною, «сквозь смерть», двадцать два года спустя? Трудно, невероятно трудно сказать. Мне чувствуется в его душе столько неизжитой боли и тоски, что не хватает подходящих слов, чтобы передать это читателю, – человеку, лично его не знавшему, и не удивить знавших его мало. Попробую это сделать через его стихи, но, конечно, не в литературоведческом смысле, а в смысле человеческом, душевно человеческом. Здесь мне кажутся характерными два стихотворения:
Как летящая из сил последних птица
Посредине ледяного океана
С верной смертью продолжает биться
Средь ветров, и стужи, и тумана.
Как она должна свое дыханье
С силою своею соразмерить,
Чтоб в себе преодолеть желанье
Больше не бороться и не верить.
Что должно ей, этой птице, мниться
В океане том необозримом... –
Так и ты, душа, должна стремиться
К берегам своим недостижимым.
Вот этой птицей мне и представляется живший «из последних сил» Смоленский. «Ледяным океаном» – его жизнь, ставшая «ледяной» отчасти по его собственной вине. Или судьбе? Ведь в том-то и тайна человеческой жизни, что зачастую личная вина и «слепая» судьба неразрывно сплетены. Какая же это вина? Во всяком случае, совершенно достаточная, чтобы жерновом навалиться на предельно тонкую и чуткую душу.
И второе, подобное первому:
Любимая моя живет в Китае,
В высокой башне обо мне мечтая.
И, может быть, она уже стареет...
За годом год, за ветром ветер веет,
Раскосые кругом теснятся люди –
Но нет меня и никогда не будет
У маленькой и желтоватой груди.
Сергей Рафальский считал это стихотворение одним из лучших и, во всяком случае, лучше других выражающим внутренний мир, умонастроение Смоленского: не только он разлучен со своей любовью, но и его любовь разлучена с ним; он обречен жить с мечтой, но и мечта обречена жить с ним. Снова двойная обреченность.
Георгий Иванов, как и Смоленский, ненавидел и не принимал советский мир. Но будучи меньшим лириком и большим реалистом, в какой-то момент понял, что жить в двух мирах нельзя, «проснулся, чтоб увидеть ужас, бессмысленность своей судьбы...» Владимир такого пробуждения не хотел: а вдруг... И поэтому старался «убежать»:
Мне трезвый мир невыносим –
Недвижность есть в его движенье.
Пронизан мглой, пропитан тленьем,
Безвыходной тоской томим,
Он мне невыносим. Люблю
Божественное опьяненье...
Поэтому:
Мы будем пить, пока вино в стаканах,
Мы будем жить, пока любовь в сердцах,
Бессильны против любящих и пьяных
Земная злоба, нищета и страх...
Здесь все же придется коснуться личной жизни поэта. Он кончил какую-то коммерческую школу и работал бухгалтером на небольшой фабрике, принадлежавшей почитателю его поэзии. Не думаю, чтобы он был хорошим бухгалтером, даже не в смысле профессионализма, но просто потому, что считал недостойным поэта такое ремесло: «считать деньги!». Но надо было как-то жить, а значит, как-то работать. Ничего другого Владимир делать не умел. Когда я его спрашивал, почему он пошел на бухгалтерские курсы, он только разводил руками.
Затем семейные обстоятельства. Таисия Ивановна была его второй женой. От первой у него был сын Алеша, высокий, стройный, интересный – но не такой красивый, как отец, – юноша, которого я видел два раза. С Т.И. отношения у Владимира были одинаково (так мне казалось) и трудные, и светлые.
Во всяком случае, одни из лучших его стихотворений посвящены ей:
Не знаю как, не знаю почему,
Какими силами земли и неба,
Но ты со мною делишь корку хлеба
И к сердцу приникаешь моему.
И в смерти час и в вдохновенья час
Со мною ты всегда неотделимо.
Все движется, все – мимо, мимо, мимо...
Недвижно лишь твоих сиянье глаз.
Или конец другого:
И я пойму, зачем из темноты
Я вызван был на счастие и муки,
И улыбнусь... Ко мне склонишься ты
И на груди мне накрест сложишь руки.
Не помню, чтобы Смоленский ходил в церковь. И не потому, что был неверующим. Но потому, что и вера его была мучительной: она как бы раздваивалась между Богом и Христом. Здесь – тайна; ведь и Христа он считал Богом, но Христос был ему ближе своей богочеловечностью. Бога же он воспринимал скорее по-древнееврейски, «сокрушающим ребра» и «карающим». Отсюда и страшные строки:
Проклясть земной и страшный мир,
Людей, и ангелов, и Бога...
За что? За то, что
Ты отнял у меня мою страну,
Мою семью, мой дом, мой легкий жребий,
Ты опалил огнем мою весну,
Мой детский сон о правде и о небе...
Толковать их не берусь, даже сейчас, «сквозь смерть», потому что сам Владимир не отдавал себе полностью отчета в том, что написал. Могу только – но опять же, лишь его собственными стихами, – дать представление о его душевном состоянии:
Никакими словами, никакими стихами,
Ни молчаньем, ни криком – ничем
Не расскажешь о том, что ты слышишь ночами,
О том, что закрытыми видишь очами,
Когда неподвижен, и нем,
И глух ты лежишь, как в могиле, в постели,
На грани того бытия,
И в темном, надземном, надзвездном пределе,
Над жизнью и смертью, без страха, без цели
Душа пролетает твоя.
Никакими словами...
Фотографически запечатлелись наши горные прогулки вдвоем в Сервозе. Сговаривались с вечера, что Владимир зайдет за мной, потому что из моего отельчика, сразу после небольшой площадки перед ним, поднималась извилистая дорожка на горный перевал. Она проходила возле шалаша деда Бушара, которому принадлежал небольшой клочок земли, где, кроме елей, росло еще несколько сливовых деревьев. Из плодов их дед гнал отличный «мар» (местный самогон) и продавал по баснословно дешевой цене. Мы частенько его покупали, и это служило поводом не брать с собой, несмотря на все ее домогательства, Т.И. Домогательства Смоленского раздражали, но понять Т.И. было нетрудно, так как случалось, что за такую прогулку, длившуюся три-четыре часа, мы иногда выпивали всю бутылку. Мар нас нежно пьянил, развязывались языки и распахивались души, а горный воздух, развеивая алкогольные пары, предохранял от «положения риз». Внизу, конечно, доставалось и Владимиру, и мне.
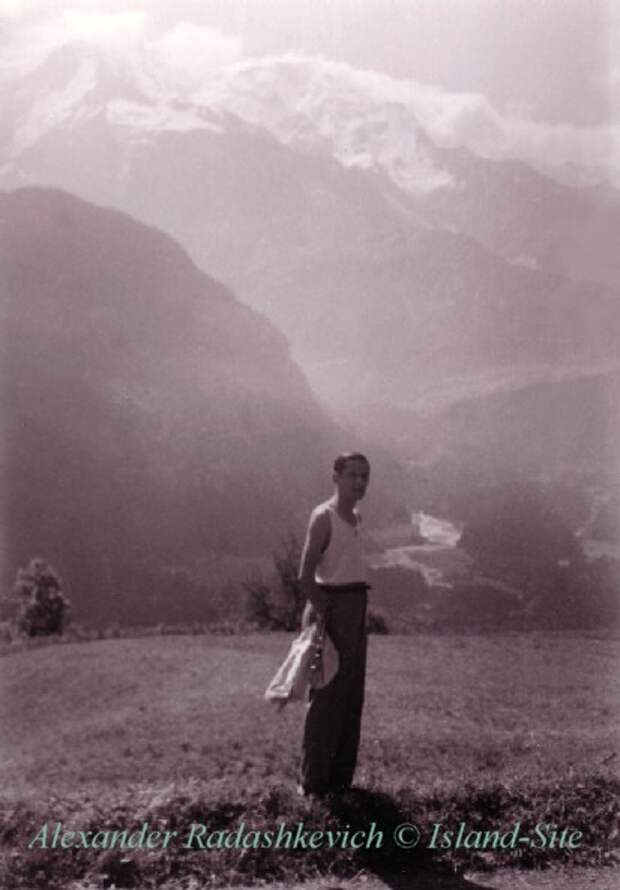
Владимир Смоленский в Альпах. Фото К.Д.Померанцева.
Публикуется впервые.
Совсем другими вспоминаются последние, длившиеся почти год, месяцы мучительного умирания Смоленского от рака горла, особенно после операции, когда он уже почти, точнее, совсем не мог говорить, отвечая жестами или написанными на бумаге несколькими словами. Они раковой опухолью врезались мне в память, и мне физически тяжело о них писать. Ведь дело касается чувства, духовно-душевной драмы, с которой я соприкасался, входя в квартирку Владимира. В ней уже хозяйничала смерть, она была почти физически ощутима, но какой-то издевательский оптимизм (или слепота?) прогонял мысль о ней. Творилась мистерия, и у меня не хватает слов ее описать. Да я и не знаю, существуют ли для таких вещей слова. Воистину «никакими словами...»
Чужая душа – потемки. Но в потемках, ощупью, можно все же как-то пробираться. К душе Володи Смоленского мне до сих пор страшно прикоснуться, столько в ней было любви и нежности, горести и отчаяния. И вот они сейчас расположились вокруг меня, я их чувствую, как мои собственные, но подойти к ним, коснуться их – не в силах.
Одна только боль, боль, боль.
И вот 8 ноября 1961 года, часов в десять утра, телефон. Звонила наша общая знакомая поэтесса А.И.Горская: «Скончался Смоленский...»
Ему было 60 лет.
Он лежал на кровати, смуглый, с белым венчиком на лбу. Еще более красивый, чем при жизни. Почему-то мелькнула мысль (до сих пор от виденья не могу отделаться): таким был Магомет.
В комнате были Т.И., ее младшая сестра и муж сестры, священник И.Верник. Около кровати на стуле лежала открытая книжка стихов Бунина, которые за последние недели Владимир очень полюбил. Самого же Бунина он всегда любил. И Бунин его. Насколько помнится, больше никого не было. Не было и слез. Одна лишь, в каждом ушедшая в себя, напряженность.
Я старался стихами Смоленского передать его образ, облик, внутренний мир. Приведу теперь его любимое, «коронное», которое он читал на всех своих выступлениях, и всегда сопровождавшееся бурными аплодисментами:
Закрой глаза, в виденье сонном
Восстанет твой погибший дом –
Четыре белые колонны
Над розами и над прудом.
И ласточек крыла косыя
В небесный ударяют щит,
А за балконом вся Россия,
Как ямб торжественный, звучит.
Давно был этот дом построен,
Давно уже разрушен он,
Но, как всегда, высок и строен,
Отец выходит на балкон.
И зоркие глаза прищуря,
Без страха смотрит с высоты,
Как проступают там, в лазури,
Судьбы ужасные черты.
И чтоб ему прибавить силы,
И чтоб его поцеловать,
Из залы или из могилы
Выходит, улыбаясь, мать.
И вот, стоят навеки вместе
Они среди своих полей,
И, как жених своей невесте,
Отец целует руку ей.
А рядом мальчик черноглазый
Прислушивается, к чему –
Не знает сам, и роза в вазе
Бессмертной кажется ему.
К. Д. Померанцев
http://www.radashkevich.info/KD-Pomerancev/KD-Pomerancev_131.html
Счастье и закат Владимира Смоленского
Мы были странной кучкой людей…
Н. Берберова
Хотелось бы начать бодрой, жизнеутверждающей фразой: дескать, возвращаются на родную землю — занесенными ветром строчками своих стихотворений — замечательные поэты русского рассеянья, но будет это изрядным лицемерием, ибо возвращаться-то они, положим, возвращаются, но, возвратившись, постоят потупившись, попереминаются с ноги на ногу и, глядишь, поворотятся и пойдут себе восвояси, в небытие.
“Среди поэтов "аутсайдеры" типа Заковича или Дряхлова, может быть, переживут многих зарубежных "генералов" от литературы”, — пророчески, со всею наивной прямизной рубанул как-то Василий Яновский. И накаркал. Ибо генералов не так-то просто пережить, очень уж они, генералы, живучи. В местечково-трансцендентальном плане.
Которые там ходили в мэтрах — Ходасевич, Г. Иванов, Адамович (в котором критик заслонял поэта), Чиннов, — тем повезло больше, их хоть как-то нынче печатают: верно, считается, что от генерала до мэтра — рукой подать. Но ежели ты второго (или, упаси Бог, третьего) “ряда” — дело твое плохо; у таких прекрасных русских поэтов, как Анатолий Штейгер, Екатерина Таубер, Виктор Мамченко, Лидия Червинская, Алексей Холчев, Юрий Мандельштам, София Прегель, Борис Закович, Владимир Мансветов, Бенедикт Дукельский (не путать с Владимиром Дукельским, русским поэтом и известным — под псевдонимом Вернон Дюк — американским композитором), Кирилл Набоков, Антонин Ладинский, Юрий Терапиано, Вера Булич, Перикл Ставров, Дмитрий Кленовский, Валерий Перелешин и многих, многих других, на родине поэтические книги не выходили, и с творчеством их можно познакомиться лишь в зарубежных изданиях (которые не достать; с некоторых пор, с ляпами и орфографическими ошибками, — в Интернете), редких антологиях, маленьких коллективных сборничках либо скудных журнальных публикациях.
В этом смысле Владимиру Смоленскому на судьбу жаловаться (буде у почивших и был бы такой обычай) вроде бы и грех: в 1994 году московское издательство “Праминко” напечатало его книжку (тоненькую и далеко не полную), а к столетию со дня рождения, в 2001 и 2002 годах, также в отечественном издательстве — “Русский путь” вышел однотомник “О гибели страны единственной…”, обнимающий все книги стихов Смоленского. Но сути дела сей отрадный факт совершенно не меняет: напечатанные мизерным тиражом, сборники эти давно уже стали библиографической диковиной, каковой диковиной остается для современного русского читателя и сам Владимир Алексеевич, известный сейчас в России разве что “узким” специалистам.
Это тем более грустно, что аутсайдером в поэзии Смоленский никогда не был, но, “слабый сын” потерянного поколенья, названного позже В. Варшавским “незамеченным”, он сначала ходил в “поигрывающих бедрами” чтецах и эпигонах, потом — что может быть банальнее! — в проклятых поэтах, причем того самого “второго ряда”, после в коллаборационистах — людей хлебом не корми, дай понавесить ярлыков, — а там уже и вовсе все это перестало быть кому-то нужно. “Поплавский, Кнут, Ладинский, Смоленский были вышиблены из России гражданской войной и в истории России были единственным в своем роде поколением обездоленных, надломленных, приведенных к молчанию, всего лишенных, бездомных, нищих, бесправных и потому — полуобразованных поэтов, схвативших кто что мог среди гражданской войны, голода, первых репрессий, бегства, поколением талантливых людей, не успевших прочитать нужных книг, продумать себя, организовать себя, людей, вышедших из катастрофы голыми, наверстывающих кто как мог все то, что было ими упущено, но не наверставших потерянных лет”. Это из “Курсива” Берберовой.
Очень тепло писала о встречах в середине 20-х годов со Смоленским в своих “французских” мемуарах Зинаида Алексеевна Шаховская (“Образ жизни”, из книги “Таков мой век”): “На одном из балов я встретила молодого человека романтической внешности с черными глазами и тонкими чертами бледного лица. Один из нас, танцуя, начал читать на память стихотворение Александра Блока, а другой его закончил, и мы оба были восхищены тем, что среди обывателей встретились два поэта, взаимная симпатия перешла в дружескую влюбленность. Это был Владимир Смоленский, который позже стал самым любимым поэтом русской колонии в Париже. Я подарила Владимиру Смоленскому перстень, врученный мне, как талисман, другим поэтом с трагической судьбой, великой Мариной Цветаевой…” Позже Смоленский потерял это — несчастливое — кольцо, что, впрочем, не помогло…
Смоленский — Зинаиде Шаховской: “Начиная с 18 лет воевал с большевиками в добровольческой армии, с которой и эвакуировался из Крыма в 21-м году. Два года жил в Африке, в Тунисе, где и начал впервые писать стихи, потом приехал во Францию, года два работал на металлургических и автомобильных заводах. Потом получил стипендию, кончил в Париже гимназию, учился в Сорбонне и коммерческой академии. Теперь служу бухгалтером в одном винном деле, или, как говорит Ходасевич, — "считаю чужие бутылки"… Женат. Имею красивого сына. Вот, кажется, и все”.
В “Полях Елисейских” и в почтенные лета не сумевший свыкнуться с несовершенством человеческой природы Яновский “вспомнит всё”: “Гимназистом Смоленский влюбился и сочетался законным браком с румяною, полногрудою девицей. Тогда он пел стихи о "ласточке белогрудой"… Постепенно заинтересовался водкою, разошелся с женою. Хорошенький, смуглый мальчик во фраке, кокетливо поигрывая бедрами, декламировал с эстрады о "пьяном поэте" и что "каждая ночь бесконечна". <…> В характере Смоленского было нечто объединявшее его с Ивановым и Злобиным — моральное гнильцо. Но умом или даром Иванова он, конечно, не обладал. Смоленский умел с толком и смаком повествовать о собственной смерти. Эта тема казалась ему и трагической, и значительной. Но в противоположность Иванову или Мережковскому, тоже распространявшимся на этот счет, Смоленский действительно скончался молодым, что, увы, задним числом объясняет многое”. Ничего и никаким числом это на самом деле не объясняет, ибо умер Смоленский, как впоследствии и Венедикт Ерофеев, от рака горла, 60-и лет от роду, что молодостью, даже при самой оптимистической жизненной позиции, не назовешь.
“Нельзя быть поэтом, не помня о смерти. Не может быть поэзии без отдаленного ее присутствия. Это, конечно, не значит, что слово "смерть" должно в стихах постоянно мелькать. Не значит и того, что стихи должны быть мрачны, унылы, "морбидны". Но это значит, что они должны быть во внутреннем ладу со строками Платона о связи творчества и смерти. <…> Правда, по Платону смерть — источник и побуждение философии. Но поэзии — тем более. Если бы не было смерти, о чем поэзия, к чему поэзия? Так, для забавы, для мимолетной услады. Только и всего”. Это мнение Адамовича (Комментарии, издание Камкина 1967 года, с. 110). Смерть, как писал Вл. Янкелевич (в "La Mort"), абсолютная “апоэзия”, она “навязывает молчание”, но ведь в этой “невозможности поэзии”, в этих “двух-трех последних словах” сосредоточена самая ее суть, пронзительная и невыразимая.
Вот еще зовет вдали и плачет,
Вот уже и вовсе не слышна.
Тишина... Но разве это значит,
Что умолкла навсегда она?
Д. Кленовский
Насчет же гнильцы, не очень понятно, что Яновский имеет в виду. Рассуждения на тему “гений и злодейство” стары как мир, и Василий Семенович даже не замечает, что сам себе противоречит: в одном месте его книги мы с удивлением читаем чуть не восторженный пассаж о Прусте: “Пруст поместил свой капитал в публичный дом и жил с прибыли, что дало ему возможность написать гениальный роман” (ай, какой молодец!), а в другом — с таким же удивлением видим грубую диффамацию в адрес людей, не менее талантливых, чем Пруст, но до обустройства на паях гомосексуального публичного дома все же не докатившихся: “Г. Иванов — человек беспринципный, лишенный основных органов, которыми дурное и хорошее распознаются… Такого сорта монстры (sic!) встречаются на каждом шагу в искусстве; в Париже того времени Иванов не являлся исключением; он становился чем-то единственным только благодаря высокому классу своих стихов. Смоленский, Злобин принадлежали к той же "аморальной" семье”. Все это больше похоже на какое-то детское сведение счетов, сродни пресловутому до краев полному ночному горшку, выставленному Буниным в переднюю (по злорадному свидетельству Берберовой), так что на этом “скользкую” тему можно смело закрыть и перейти собственно к стихам.
Печататься Смоленский начал сравнительно поздно, в 28 лет, в Париже, в “Сборниках” Союза молодых поэтов и писателей; на дворе тогда стоял 1929 год. А первый “самоличный” сборник его стихов, “Закат”, вышел в парижском издательстве “Я. Поволоцкий и Ко” в 1931 году, — тоненькая брошюра на скверной бумаге. В нем ровно сорок стихотворений, большей частью коротких, в две-четыре строфы. Ходасевич на эту книгу отозвался так: “В небольшой книжке Смоленский сосредоточил то, что разрозненно бродит по стихам весьма и весьма многих его современников, а в той или иной степени присутствует, может быть, у всех… Можно сказать, что Смоленскому посчастливилось написать книжку, чрезвычайно показательную для его поэтической эпохи… Стихи Смоленского очень умелы, изящны, тонки, — по нынешним временам даже на редкость”.
Будут жить в тесноте — тесной станет земля, как тюрьма, —
Будут знать, что ни Бога, ни ада, ни вечности нет,
Выше туч из бетона и стали построят дома,
И большой дирижабль долетит до далёких планет.
И когда зазвенит над кружащимся миром труба,
И когда над землёй небеса распахнутся как двери,
И погаснут огни, и откроются в склепах гроба —
То никто ничего не поймёт и никто не поверит...
(1929)
Стихи, собранные в этой книге (не исключая и редкие относительно слабые, и некоторые изысканно-подражательные стихотворения), завораживают удивительно простым и удивительно своеобычным голосом, исполненным тою мерой, которой невозможно научиться, — она либо есть, либо ее никогда не будет, сколько ни старайся. В не слишком проницательной и довольно поверхностно написанной рецензии на “Закат” “Стихи В. Смоленского” (газета “Последние новости”, 1932, 21 января, № 3956) Адамович не спорит с тем, что “у Смоленского есть талант, у других его нет” (подразумевая, и совершенно правильно, что в поэзии талант — штука необходимая, без него и говорить не о чем, но далеко не достаточная, — это лишь первый шаг, первая ступень посвящения), и выражает свое чувство: “…Стихи его обладают особым свойством "нравиться": иногда видишь даже их слабости, замечаешь недостатки, — но стихи все-таки кажутся хорошими, удачными благодаря пронизывающей их музыкальной прелести”.
Нина Берберова и Смоленский (Коша, как называли его друзья) были ровесники, притом родились чуть не в один день, в конце июля 1901 года, — Нина Николаевна в Петербурге, Владимир Алексеевич на Дону, под Луганском. Из “Курсива” Берберовой: “…В Петербурге ни Кнут, ни Смоленский не были. Бывал ли там Ладинский, я не знаю. Читал ли Кнут когда-либо Ломоносова или Вяч. Иванова, Веселовского или формалистов? Не думаю. Смоленский наверное их не читал, смутно знал эти имена… Смоленский почти ничего не читал, считая, что это только может повредить его своеобразию (а своеобразия-то у него было меньше, чем у других). Мы как-то говорили с ним о Тютчеве, но он не хотел его знать, боясь, что Тютчев может нарушить его цельность и не окажется сил бороться против него”. Берберовой Смоленский посвятит одно из стихотворений своего первого сборника.
<…> У наглухо закрытого окна
Стоишь ты, неподвижна и бледна,
Ты смотришь вдаль. И по твоим губам
Скользит улыбка. Что ты видишь там,
За этой тишиной и темнотой?
Какою невозможною мечтой
Ты сердце ослабевшее пьянишь?
Какое ожидание таишь?
Какою радостью душа живет?
Так умирающий бессмертья ждет,
Так иногда слепому снится сон,
Что он прозрел, что солнце видит он,
И у него тогда — о, ложь и страх! —
Такая же улыбка на губах.
(1930)
Когда я говорю о своеобычном голосе Смоленского, я имею в виду совсем не то, что Берберова, — не поэтику, не формальное и тематическое своеобразие, здесь Смоленский, действительно, вряд ли открыл что-то новое, — но некое надсмысленное своеобычие, тот самый “голос приглушенный”, о котором позже скажет Адамович, голос, по которому сразу узнаешь стихотворение Смоленского; благодаря ему даже и проходные его стихи не вызывают равнодушия, но необъяснимо трогают, как трогали раньше и трогают по сию пору многие неряшливые и, может быть, “не имеющие художественной ценности” стихи Блока (в противоположность, например, искусно выделанным, но лишенным этого печального очарования oeuvr’ам Брюсова).
Нам снятся сны, но мы не верим им,
Не понимаем знаменье Господне,
Вчерашний сон развеется, как дым,
Его не в силах вспомнить мы сегодня.
Вот так и жизнь земную — в смертный час
Мы, коченея на холодном ложе,
Смежая веки изумленных глаз, —
Ни вспомнить, ни понять не сможем.
(1930)
Тут приходят на память Случевский, Фет… “Жизнь пронеслась без явного следа, Душа рвалась — кто скажет мне куда? С какой заране избранною целью?..” Кто скажет? Никто не скажет, кроме поэта. Говорить простыми словами о самом главном — вот, пожалуй, простое поэтическое credo Смоленского. Простое по формуле, но трудное в выполнении, ибо поэзия при такой сверхзадаче пресуществляется в жизнь. Берберова вспоминает: “Он не жалел себя: пил много, беспрестанно курил, не спал ночей, ломал собственную жизнь и жизнь других, терял здоровье и небольшой талант свой не развил, вероятно, оттого, что был неумен, был эклектик и не сознавал этого. Он думал, что русская поэзия на тысячу лет затвердела и в старой своей просодии, и в общедоступном романтизме, изношенном до дыр еще задолго до его рождения. Он влюблялся, страдал, ревновал, грозил самоубийством, делая стихи из драм своей жизни и живя так, как когда-то — по его понятиям — жили Блок и Л. Андреев, а вернее всего — Ап. Григорьев, и думал, что поэту иначе жить и не след”. Раздражение Берберовой, женщины волевой и целеустремленной, конечно, понять можно: она знала, что говорит; и когда нечто из того же ряда навалилось на нее саму, она… сварила борщ на неделю, заштопала своему гению носки и — была такова. Но, прожив десять лет с поэтом, знала ли она, что такое поэт? Вопрос без ответа. Однако рассуждения о “затвердевшей просодии” сейчас не могут не вызвать улыбки — с высоты “неутешительного знанья” о том, в какой бесконечный тупик залезла нынешняя, “гибкая”, просодия.
Разбрасывать и собирать слова,
Уже почти без смысла и значенья,
Уже без страсти и без вдохновенья,
Уже без боли и без торжества.
И почерком разборчивым вписать
В тетрадь еще пять-шесть коротких строчек,
И не забыть ни запятых, ни точек.
Перечитать и отложить тетрадь.
Изнемогая в медленной борьбе,
Где победить и незачем и нечем,
Всё больше горбить сгорбленные плечи,
Всё равнодушней думать о себе
И о других. Так, продолжая жить
Уже с полузакрытыми глазами,
Почти непогрешимыми словами
Научишься о жизни говорить.
Это стихотворение из второго сборника Смоленского, “Наедине”, вышедшего в издательстве “Современные записки” в 1938 году. Если взять в расчет существовавшие идеологические, эстетические и “человеческие” разногласия между поэтами “парижской ноты” и группы “Перекресток” (что во многом “человеческими” же причинами и объясняется; тут и масонство, в том числе Адамовича — вдохновителя “ноты”, Ю. Терапиано, и “вероотступничество” последнего, и, что греха таить, нетрадиционные сексуальные наклонности, владевшие, к примеру, тем же Адамовичем, Штейгером, и литературно-бытовая свара между Ходасевичем и “двумя Жоржиками” — Ивановым и Адамовичем, часто с переходом на личности, ворошение всякого “компромата”, вроде леденящего кровь убийства — то ли богатой старушки, а не то старичка — в Петрограде, на Почтамтской, 20, в доме, принадлежавшем мадам Беллей, тетке Адамовича, и проч. и проч. все в таком роде), если учесть, повторю, разногласия между двумя “школами”, “течениями”, смотрите, насколько в унисон звучат вышеприведенные строки Смоленского со старым стихотворением Адамовича:
Адамович написал его еще до эмиграции, в 1919 году, и позже немного переделал (вместо слов “…к старости, без сил, ты встретишь срок” поставил “…к старости тебе настанет срок”). Но для Георгия Викторовича этого рода большая поэзия была литературным упражнением, стихотворным переложением идеи, извлеченной из “Записок Мальте Лауридса Бригге” Рильке. И только много позже, в 1967 году, пройдя свой путь изгнания, многое поняв и сказав (а многое не успев), он вслед за Смоленским, к тому времени уже давно ушедшим из жизни, повторит в стихах то, о чем всю свою эмигрантскую жизнь говорил как мыслитель и критик — и в Литературных беседах, и в Комментариях, — о “невозможности поэзии”, о том, что “настоящих слов в языке нет”:
Ни музыки, ни мысли… ничего.
Тебе давно чистописанья мало,
Тебе давно игрой унылой стало,
Что для других — и путь, и торжество. <…>
Удивительно, что “влиятельная” критика — Ходасевич, Глеб Струве, Бицилли — Смоленского преимущественно хвалила. Хвалил его, хотя и сдержанно и с оговорками, даже Адамович (это с его-то “сквозным” брюсовским тезисом-императивом, обращенным вообще к поэтам: “Пишите прозу, господа. Дайте стихам отдохнуть, как дают отдохнуть земле!”). Удивительно это тем, что на излете четвертого десятилетия двадцатого века стихотворец, пишущий твердым метром и в рифму, чуждый модернизму, авангардизму и всякому другому “прогрессивному” -изму, не знающий не только западноевропейской, но и своей родной литературы и потому перепевающий последнюю на все лады, вряд ли мог претендовать на “престижное” место в табели о поэтических рангах. И большим поэтом Смоленского не величали — не было за что. Но куда более высокое звание — поэт божьей милостью — закрепилось за ним сразу.
Не стоило так долго жить,
Так много знать, так много видеть,
Чтоб виденное разлюбить,
Любимое возненавидеть.
Не стоило. — Не возражай,
Не спорь — ты знаешь цену слова;
Себя надеждой не смущай
И ложью не прельщай другого.
Средь тёмных душ, и слов, и числ
В небесное глядись сиянье
(Единственный быть может смысл!)
Земное дли существованье
Не для того, чтоб что-то вдруг
Понять или простить кому-то
(Всё прощено, мой нищий друг...)
Но дли, чтоб отдалить минуту
Прощания, вот с этим всем
Ничтожным и прекрасным миром,
Где в шуме умолкала лира,
Ненужная ему совсем.
Да, все прощено… В 1934 году в 55-м номере парижского журнала “Современные записки” было напечатано восьмистишие Георгия Иванова, вошедшее позже в “Отплытие на остров Цитеру”:
Звезды синеют. Деревья качаются.
Вечер как вечер. Зима как зима.
Все прощено. Ничего не прощается.
Музыка. Тьма.
Все мы герои и все мы изменники,
Всем, одинаково, верим словам.
Что ж, дорогие мои современники,
Весело вам?
Не правда ли, поражает замечательное созвучие этих стихотворений. И дело здесь не в “тематическом” сходстве, не в совпадении оборотов, но в неопределимом таинственном сродстве; у Смоленского тут, пожалуй, что-то от Поплавского, от его “мне мир невыносим”, ивановское же стихотворение наполнено такой красоты музыкой, пронизано таким неземным печально струящимся светом, что о каком-либо подражании либо заимствовании в нем даже думать — кощунство. Однако если Ходасевич по старой ссоре и считал, что Георгий Иванов “вышел из Фета, причем не самого лучшего”, то в отношении Смоленского он держался иного мнения. В “Возрождении” (а где бы еще?!) он писал: “Поэзия Смоленского глубоко современна, но вполне чужда поверхностного новаторства; непогрешимо изящная, проникнутая тонким, порой очень сложным и изысканным мастерством, она отличается той целомудренной сдержанностью, которая неразлучна с подлинностью чувства, с внутреннею правдивостью. В современной русской поэзии Смоленскому принадлежит одно из первых мест”. В сборник 1938 года Смоленский поместил и стихотворение, обращенное к Ходасевичу, — пожалуй, одно из лучших в книге:
Всё глуше сон, всё тише голос,
Слова и рифмы всё бедней, —
Но на камнях проросший колос
Прекрасен нищетой своей.
Один, колеблемый ветрами,
Упорно в вышину стремясь,
Пронзая слабыми корнями
Налипшую на камнях грязь,
Он медленно и мерно дышит —
Живёт — и вот, в осенней мгле,
Тяжёлое зерно колышет
На тонком золотом стебле.
Вот так и ты, главу склоняя,
Чуть слышно, сквозь мечту и бред,
Им говоришь про вечный свет,
Простой, как эта жизнь земная.
Пройдет совсем немного времени, несколько месяцев, и он вместе с Владимиром Вейдле, Раевским, Юрием Мандельштамом будет нести гроб Владислава Фелициановича… Смоленский был из “круга” Ходасевича, Терапиано. “Ходасевич любил его не только как человека, но и за его внешность — в нем (как и в Ходасевиче самом) была какая-то прирожденная легкость, изящество, стройность. Худенький, с тонкими руками, высокий, длинноногий, со смуглым лицом, чудесными глазами, он выглядел всю жизнь лет на десять моложе, чем на самом деле был… Ему "посчастливилось": в первый год приезда в Париж он получил стипендию, окончил счетоводные курсы и служил бухгалтером в крупном предприятии. Ночами он, как и Поплавский, как, впрочем, все мы ("младшие") в разное время, сидел подолгу в монпарнасских кафе, а иногда и у цыган, в ночном ресторане, куда все ходили по русской поэтической традиции и где красавица Маруся Дмитриевич (рано умершая) всех сводила с ума своими песнями и плясками. Ужинать, конечно, никому и в голову не приходило, слишком там было дорого, но просидеть полночи над рюмкой коньяка было изредка возможно. Голод выгонял нас из этого райского места, и мы шли есть толстый бутерброд (булка, проложенная лепестком колбасы) в одно из кафе на бульваре, открытое до утра” (Н. Берберова).
Шампанское, и водка, и абсент,
И музыка, и запах ресторана —
Затянутая в смокинг обезьяна
Старухе шепчет сальный комплимент.
Поёт цыган, а важный метрдотель
Склоняется к икающим влюблённым —
Карману и душе опустошённым
Должно быть вреден благодатный хмель.
Он жжёт огнём свинцовые сердца,
Их прочный мир шатается и тает,
Обломанные когти выпускает
Придушенная совесть подлеца.
Уйдём, мой друг, отсюда навсегда,
Мы тоже пьяны, но совсем иначе...
Уйдём скорей, иль ты опять заплачешь
От боли, отвращенья и стыда.
Откроем дверь, пусть ветер пробежит
По волосам, по тихим струнам лиры,
Пусть мир иной, страдающий и сирый,
Заблудших нас и примет и простит.
Общая тенденция к “полевению” русской эмиграции, наблюдавшаяся с конца 20-х годов, продолжилась и усилилась после 1945 года. Из поэтов до войны вернулись на родину Раиса Спинадель, Цветаева, Эйснер (последний — в 40-м; сейчас по возвращении был арестован и 16 лет провел в лагере и ссылке), после войны взяли советский паспорт и уехали в СССР (большинство — уже в середине 50-х) Ладинский, Бек-Софиев, Екатерина Рейтлингер, Илья Голенищев-Кутузов, Дмитрий Кобяков, Николай Щеголев (не думаю, что список полный). В кругах “творческой интеллигенции” “большевизантство” одних, равно как и коллаборационизм (истинный или мнимый) других, становились причиной разрыва отношений между вчерашними друзьями и единомышленниками (пример — Адамович и Г. Иванов; впрочем, можно только гадать, из-за чего на самом деле они поссорились). В 30-е, в “период обнаженной совести”, всюду всем мерещились (и, что уж там говорить, — неспроста) агенты ОГПУ, НКВД, позже — гестапо, предатели, ренегаты…
Во время войны Смоленский не покидал территорию Франции, не уехал и в свободную зону страны. Позже он напишет в “Воспоминаниях” (1955; опубл. в 1960): “Было бы отвратительно, если бы большевизм "удался", и в результате русской трагедии, страшных русских страданий, гибели русского духа, гражданеподобные советские рабы, вполне удовлетворяясь мещанским своим благополучием, жрали бы каждый день по бифштексу — догнали бы Америку, — предел чаяний своих обезьяноподобных вождей”. Вот за такие мысли и умонастроение к нему прилепился ярлык “коллаборанта”. И не только к нему. Берберова вспоминает об Иванове: “После войны он был как-то неофициально и незаметно осужден за свое германофильство. Но он был не германофилом, а потерявшим всякое моральное чувство человеком, на всех углах кричавшим о том, что он предпочитает быть полицмейстером взятого немцами Смоленска, чем в Смоленске редактировать литературный журнал”. Делаться полицеймейстером в Смоленске Смоленский не собирался, но “…при оккупации он, как и Мережковские, Иванов, Злобин, "идеологически расцвел". После победы парижане одно время их всех бойкотировали. Так, в их первом сборнике "Четырнадцать" (или "Тринадцать"?) ни Смоленский, ни Иванов, ни Одоевцева, ни Гиппиус, ни Злобин не участвовали и не могли участвовать. То же в "Эстафете"” (В. Яновский).
Надо сказать, что к этим вещам в то время относились чрезвычайно болезненно, достаточно было, казалось, невинной мелочи, нелепого и мелкого недоразумения, чтобы оказаться записанным в “приспешники”; выписаться же оттуда было трудно и хлопотно. “Коллабой” могли попенять кому угодно из тех, кто в войну жил в Европе, совсем “чистеньких” было не так уж и много; не избежала, кстати, этих упреков и Берберова (но это — отдельная тема). А если кто-то, что называется, “был замечен”, на него вешали всех собак. Так, у Дон-Аминадо в “Поезде на третьем пути” читаем: “В этот страшный сорок второй год сделки с совестью совершались не ежедневно, а ежеминутно, и все эти бесчисленные Рощины, Любимовы, Лоллии Львовы, Жеребковы, графини Чернышевы и Солоневичи бесстыдно лизали немецкие ботфорты и ездили в полоненные русские города издавать газеты и просвещать "освобожденный" народ, а Дмитрий Сергеевич Мережковский истошным голосом вопил и кликушествовал во все микрофоны германского штаба…” Мережковский действительно в июне 1941-го, живя в “поганом” Биаррице, выступил по местному радио с панегириком в адрес Гитлера, однако в 1942 году вопить истошным голосом он мог разве что с того света, поскольку 7 декабря 1941 года он умер. Словом, как в бородатом анекдоте: “Подсудимый виновен, ибо, хотя в момент совершения преступления его и не было в городе, но если бы он там был, он бы его обязательно совершил”.
Не вся правда и в словах о “бойкотировании” парижанами Смоленского и других, кого упомянул Яновский, — кто-то, может, и бойкотировал, однако в альманахе “Орион”, который выпустили в 1947 году Смоленский, Юрий Одарченко и Анатолий Шайкевич (он вышел почти в одно время с “Эстафетой”), были напечатаны, помимо прочих, стихи Г. Иванова (десять стихотворений!), Адамовича, Одоевцевой (семь стихотворений!), Ладинского, Г. Раевского (брата Н. Оцупа), Дряхлова, Бек-Софиева, Одарченко, Туроверова, произведения (проза) Бунина, Зайцева, Ремизова, Берберовой, Тэффи, отрывки из “Ночных дорог” Газданова, воспоминания В. Злобина о Мережковском и З. Гиппиус (сам Смоленский кроме восьми стихотворений поместил в альманахе и свой перевод со старофранцузского первой главы “Тристана и Изольды”).
Так или иначе, но третья книга стихов Смоленского выходит только в 1957 году. Называется она “Счастье”. “Собственно счастья или того, что счастьем зовется, в книге не много. Лишь первые проблески…” — скажет в своей несколько сумбурной рецензии В. Злобин (“Возрождение”, 1957, № 70). По воспоминаниям Яновского, “перед войной на Монпарнасе начала появляться красивая сухая блондинка, новая невеста, затем жена Смоленского. Говорили, что она религиозно настроена и собирается “спасти” поэта”. В одном из интервью Игорь Чиннов рассказывал: “Завсегдатаем померанцевских вечеров (на квартире у К. Д. Померанцева после войны собирались по четвергам многие русские, преимущественно из эмиграции первой волны: Бунин, Берберова, Газданов, Зайцев, Г. Иванов, Одоевцева, Адамович, Александр Гингер, Анна Присманова, литературовед Георгий Мейер, художник Сергей Шаршун и др.) был Владимир Смоленский, ученик В. Ходасевича и очень талантливый поэт, с широким дыханием, поэт-романтик, к счастью не унаследовавший от своего учителя его желчи и скептицизма. И слава Богу: пусть Ходасевич остается Ходасевичем, а Смоленский — Смоленским. Я бывал и у Смоленских и хорошо помню его жену Таисию Ивановну. Оба они были очень хорошими людьми…”
Начинается “Счастье” семью стихотворениями, посвященными Таисии Смоленской, которые весьма сильны, — даже на фоне традиционно высокого уровня русской поэзии тех и предшествующих лет вне России, — хотя и почти пригодны для того, что Терапиано называл “мелодекламацией с надрывом”. Но Смоленскому уже не до декламации, это уже не “молодой казак-литератор”, не “поэт maudit”, собирающий полные залы и понуждающий чтением своих стихов рыдать чувствительных девиц в голос; это несчастный, бедный и больной человек, уже, быть может, и не ищущий “последнего смысла”, уже открывший, быть может, трудную и страшную и такую простую истину, что никакого смысла никогда не было и нет.
Душа во мгле проснулась,
И заскулил щенок,
И, в облаках, метнулась
Луна, куда-то вбок.
И дождик чуть закапал,
И мутной пеленой
Покрылся мир, заплакал
Младенец за стеной.
Какая в мире слабость,
Безвыходность, тоска...
Бредёт по лужам баба,
Глядит на облака;
Мужик стругает палку
Зазубренным ножом,
Дымок струится жалкий
Над скудным очагом.
И то сильней, то тише
Дождь льётся без конца
На серенькие крыши,
На нищие сердца.
“Во всех своих бедах он всегда был виноват сам, знал это и не собирался меняться; я называла это его свойство "пьяным фатализмом", и сердилась на него, и уговаривала его "все бросить", "начать сызнова", "послать все к черту". Он качал головой. Отними у него страдание, что у него останется? Из чего будет он делать стихи?” (Н. Берберова). Ну, что ж поделать, если, как говорил Григорий Ландау, “в культуре основанием служит вершина”. Во всех смыслах, и в самом страшном… А в “богомерзком” Йере умирал Георгий Иванов — этаким “йеромонахом”, в богадельне, в обществе… дряхлых испанских коммунистов, бежавших еще в 1938 году во Францию от преследований франкистского режима. Мучился, как в свое время Рембо в Адене, от дикой жары, перекраивал наново старые свои стихотворения, что-то писал — порой чудесные стихи — ужасным своим почерком и сам уже путал драму с дрёмой (плюясь на глупую ивасковскую опечатку), а страдание с сиянием.
Еще в начале 30-х Петр Бицилли, мудрый, приметливый и справедливый (который в 1936-м во всем альманахе “Якорь”, “надежды симвóле”, отыщет единственное “прегрешение против русской грамматики” — строку Смоленского “Сквозь толпу торгующих святошей”), отмечал формальную (в определенной степени подражательную) схожесть стихов Смоленского со стихами Георгия Иванова. Стихи Смоленского 50-х годов гораздо ближе к стихам позднего Иванова, конгениальны им, родственны им по духу; они стали сдержаннее и приглушеннее, “сияние” в них — такая же законная “лирическая константа”, меньше стало патетики и выспренности, куда тише придавливается “педаль” (любимое словцо Адамовича), и лишь практически полное отсутствие иронии у Смоленского принципиально различает этих двух поэтов. Отчаянье превратить в игру? — в эти игры он уже не играет, преобразить гибель в торжество? — что ж, это сделают и без него. Он живет одной минутой, и минут этих осталось не так много.
Весенний холод, уличка Парижа
И кабачок знакомый на углу...
Всё дальше жизнь уходит, смерть всё ближе,
Всё равнодушней я к добру и злу.
Конечно, зла старался я не делать,
Но вижу, что не сделал и добра, —
Писал стихи, на острие пера
Душа в слезах чернильных холодела.
Что эти слёзы? — расплылись стихом,
Читатель их какой-нибудь читает...
А вот слеза, что по щеке тайком,
Стыдясь скользит, мне душу обжигает.
“Когда я вернулась летом 1960 года в Париж (после десяти лет отсутствия), — вспоминает Н. Берберова, — у него был рак горла, и в середине горла была проделана доктором дырочка, и там что-то хрипело, говорить ему было запрещено. Я вспомнила, как он много лет подряд на вопрос "как живешь? как поживаешь? " неизменно отвечал: "— Медленным смертием"… Лицо у него было теперь чужое: красное, немного распухшее, с остановившимися глазами, и все время слышен был его хрип, когда он вдыхал и выдыхал. Но он все так же выглядел на десять лет моложе своих лет. В этой маленькой квартире они вдвоем жили в одной комнате, тут же ели, тут же спали, в другой комнате рядом жила мать его жены, а третья комната была складом ненужных вещей, свалкой старого мусора; ванная была грязна, и во всей квартире дурно пахло. В воздухе стояло тяжелое, неподвижное уныние”.
Умер Владимир Смоленский 8 ноября 1961 года в Париже. Умершего Чехова ждало “триумфальное” возвращение на родину — в вагоне из-под устриц. Смоленский, конечно, не удостоился и этого. Одна кумирша современной молодежи, наиболее жизнерадостной ее части, сказала недавно из телевизора: “Терпеть не могу Чехова!” Она бы так же возненавидела и Смоленского, но она его не знает. И слава Богу.
И не прощённо, не раскаянно,
В гордыне, ужасе и зле
И в страхе бродит племя Каина
По русской авельской земле.
В 1963 году в Париже вышел посмертный сборник его стихов. Маленькая книжка, изданная его вдовой, Таисией Павловой. Наверное, он очень хотел дожить до весны, поэт с перерезанным горлом.
<…> Брось книгу на пол, отвернись к стене
И чувствуя тоску и холод в теле,
Уже сквозь сон, подумай о весне,
Которая придёт в конце апреля.
Ты будешь ли ещё смотреть в окно,
Иль будешь ты уже лежать в могиле, —
Участвовать ты будешь всё равно
В её красе и радости и силе.
О гибели страны единственной он горевал всегда, Россия для него была домом — разрушенным домом, святым и невосполнимым. На глазах его был убит его отец, казачий полковник, расстрелян красными прямо во дворе собственной усадьбы. Да, шла война… Но нельзя разрушить храм, уничтожить его жрецов и паству, а потом, на его месте, построить новый, с виду такой же, и населить его новым людом и новыми местоблюстителями, да еще потомками прежних убийц. Россия, ставшая аббревиатурой (тогда — СССР, нынче — РФ), и была для поэта огромной, многострадальной землею, на которой уже не народ-богоносец живет и возносит хвалу Господу, но дикий сброд, навеки проклятый Богом, влачит свое жалкое существование. И счастья здесь уже не будет, ему просто здесь неоткуда взяться, за ним нужно идти туда, где всегда светит мягким светом закатное солнце и где с тобою пребудет все, что ты любил, — все, что ушло от тебя в недосягаемую вечность.
Закрой глаза, в виденье сонном
Восстанет твой погибший дом —
Четыре белые колонны
Над розами и над прудом.
И ласточек крыла косые
В небесный ударяют щит,
А за балконом вся Россия,
Как ямб торжественный, звучит.
Давно был этот дом построен,
Давно уже разрушен он,
Но, как всегда, высок и строен,
Отец выходит на балкон.
И зоркие глаза прищуря,
Без страха смотрит с высоты,
Как проступают там, в лазури,
Судьбы ужасные черты.
И чтоб ему прибавить силы,
И чтоб его поцеловать,
Из залы, или из могилы,
Выходит улыбаясь мать.
И вот стоят навеки вместе
Они среди своих полей,
И, как жених своей невесте,
Отец целует руку ей.
А рядом мальчик черноглазый
Прислушивается, к чему —
Не знает сам, и роза в вазе
Бессмертной кажется ему.
<февраль — май 2008 г.>
БИБЛИОГРАФИЯ
Адамович Г. В. Комментарии. Издание Русского книжного дела в США, Victor Kamkin, Inc. Washington, D. C. 1967.
Адамович Г. В. Комментарии. СПб, Алетейя, 2000.
Адамович Г. В. Литературные заметки. Книга 2. СПб, Алетейя, 2007.
Адамович Г. В. Одиночество и свобода. СПб, Алетейя, 2002.
Адамович Г. В. Полное собрание стихотворений. СПб, Эльм, 2005.
Берберова Н. Н. Курсив мой. М., Согласие, 1996.
Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. М., Вагриус, 2000.
Злобин В. А. Тяжелая душа. М., Интелвак, 2004.
Иванов Г. В. Собрание сочинений в 3-х томах. М., Согласие, 1994.
Крейд В. П. Георгий Иванов. М., Молодая гвардия, 2007.
Одоевцева И. В. На берегах Невы. На берегах Сены. М., Захаров, 2005.
Поэты парижской ноты. М., Молодая гвардия, 2003.
Поэты пражского “Скита”. СПб, Росток, 2005.
Смоленский В. А. О гибели страны единственной… М., Русский путь, 2002.
Смоленский В. А. Стихи. 1957—1961. Четвертая книга стихов. Paris ALON, 1963.
Смоленский В. А. Собрание стихотворений. Paris Impr. de Navarre, 1957.
Ходасевич В. Ф. Собрание сочинений в 4-х томах. М., Согласие, 1996.
Хрисанфов В. И. Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус. Из жизни в эмиграции. СПб, Издательство С.-Петербургского университета, 2005.
Чиннов И. В. Собрание сочинений в 2-х томах. М., Согласие, 2000.
Шаховская З. А. Отражения. Париж: YMKA-PRESS, 1975.
Шаховская З. А. Таков мой век. М., Русский путь, 2006.
Якорь. Антология русской зарубежной поэзии (1936). СПб, Алетейя, 2005.
Янкелевич В. Смерть. М., Издательство Литинститута им. А. М. Горького, 1999.
Яновский В. С. Поля Елисейские. М., Гудьял-Пресс, 2000.
Свежие комментарии